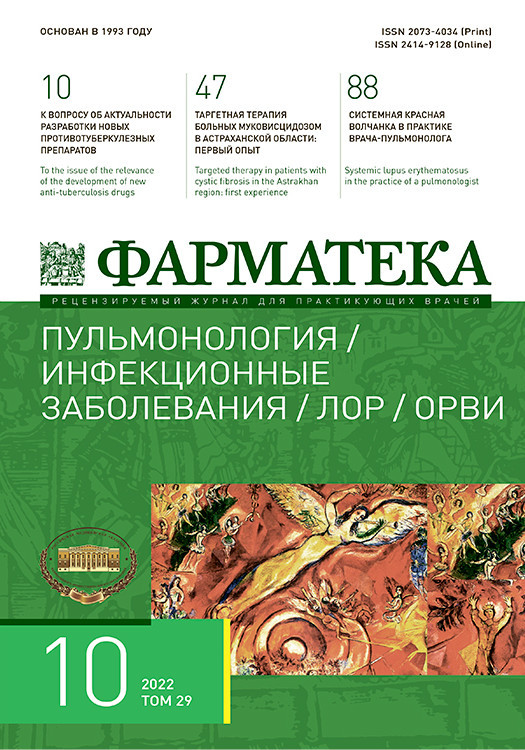Введение
В последние годы особое место в формировании тяжелых и коморбидных состояний пациентов занимает ВИЧ-инфекция [1]. Тяжелые формы ВИЧ-инфекции могут сопровождаться оппортунистическими инфекциями (Pneumocysta carini, Cytameloviruses, Herpesviruses spp., особенно вирус простого герпеса-4, -8 и др.), поражением ЦНС, туберкулезом и др. [1]. Несмотря на повсеместное внедрение современных схем антиретровирусной терапии (АРВТ), число ВИЧ-инфицированных пациентов увеличивается, также растет и их смертность [1, 2]. Это обусловлено различными факторами, однако современная клиническая практика убедительно показывает, что важнейшее значение имеют особенности психологического профиля ВИЧ-инфицированных пациентов, приводящие к таким проблемам, как ВИЧ-диссидентство (отрицание своего заболевания, сознательный отказ от приема АРВТ).
Немаловажную роль в ряду различных проявлений ВИЧ-инфекции играет патология кожи и слизистых оболочек, т.е. развитие хронического дерматоза, одним из вариантов которого является себорейный дерматит (СД).
СД – одно из самых частых хронических заболеваний кожи и ее придатков, встречается во всех возрастных группах [3–5]. У ВИЧ-инфицированных СД диагностируется с частотой в 30-80% случаев [3–6]. ВИЧ-инфекция влияет на течение СД у людей, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, за счет воздействия на рецепторы себоцитов, что приводит к повышенной выработке кожного сала с последующим вовлечением в воспаление грибов рода Malassezia и более тяжелому клиническому проявлению СД у этих больных [7, 8]. Кроме того, некоторые исследователи выявили положительную связь между СД и состоянием иммунного статуса у ВИЧинфицированных лиц [6–8].
В терапии коморбидных состояний ВИЧ-инфекции крайне важна психологическая и социальная реабилитация инфицированного индивидуума, поскольку данное заболевание крайне негативно отражается на качестве жизни таких пациентов.
В качестве клинического примера представляем интересный случай развития СД у ВИЧ-инфицированного коморбидного молодого пациента с генерализованной цитомегаловирусной (ЦМВ) инфекцией и пневмоцистной пневмонией, приведшего к тяжелым осложнениям в рамках формирующегося near miss.
Цель работы: презентация клинического случая тяжелой формы ВИЧинфекции у молодого пациента с минимальными кожными проявлениями СД, оценка его психологического профиля и выявление факторов, приводящих к ВИЧ-диссидентству.
Клинический случай
Пациент В. 34 лет, житель Новосибирска, имеющий высшее образование и занимающийся бизнесом в области коммерческой недвижимости, находился в ГИКБ № 1 в период с сентября по октябрь 2019 г.
Из анамнеза болезни пациента В. известно, что он состоял на учете по поводу ВИЧ-инфекции с 2013 г., когда и был установлен этот диагноз. Однако, несмотря на назначенное врачом-инфекционистом лечение, рекомендованную по клиническому протоколу этиопатогенетическую терапию по основному заболеванию (АРВТ), пациент сознательно не принимал ее, т.к. отмечал хорошее общее самочувствие, сохранение оптимальной функциональной активности и работоспособности. Пациент женат, серодискордантная супружеская пара. Имеет здорового ребенка. В течение 7 лет вел активный образ жизни. Жена регулярно обследовалась на ВИЧ-инфекцию (с частотой 1 раз в 3 месяца) c отрицательными результатами (ИФА крови Лайт блот 1,2 на антиген p24 и суммарные антитела Combo р24).
Отмечает ухудшение общего самочувствия в последние 3 месяца (с мая 2020 г.) в виде повышения температура тела до 38оС, появление ночной потливости, сухого кашля, выраженной астенизации, мнестических и когнитивных нарушений (отмечает забывчивость, не может сосредоточиться на решение рабочих вопросов).
Пациент дважды (08.2020 и 10.2021) обследован на COVID-19 (ПЦР SARSCoV-2 мазок со слизистой оболочки ротоносоглотки и полости носа), результаты отрицательные.
Пациент обратился в муниципальное лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства, где было назначено лечение по поводу острой респираторной вирусной инфекции, однако значительного улучшения своего состояния больной не отмечал. С октября 2020 г. у пациента появились выраженные головные боли, повышение температуры тела до гектических значений (около 40°С), замедление процессов запоминания (гипомнезия), снижение полового влечения (либидо), нарастание астенической симптоматики. Самостоятельно принимал анальгетики и антипиретики группы НПВС с достижением нивелирования симптомов лихорадки, но сохранением астенической симптоматики.
Обратился в частный медицинский центр, где было рекомендовано проведение магнитно-резонансной томографии головного мозга (МРТ). Результат обследования МРТ (05.09.2020) выявил наличие единичных гиперденсных очагов в таламусе, правой височной и левой теменной долях головного мозга с накоплением контрастного вещества, острый рассеянный энцефаломиелит.
Анализ крови методом ПЦР на вирусную нагрузку ВИЧ (05.09.2020) определил высокую вирусную нагрузку: 1 680 000 копий/мл.
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) органов грудной клетки (10.09.2020) определила наличие двусторонней полисегментарной пневмонии (КТ–1). Очаг уплотнения и инфильтрации легочной паренхимы c наличием полостных образований в апикальном сегменте S2 (подозрение на туберкулез легких). Консультирован фтизиатром. Бакпосев мокроты на Micobacteria tuberculosis отрицательный. Рекомендована превентивная терапия, однако специфического противотуберкулезного лечения пациент не получал. В конце декабря 2020 г. пациент вновь обратился к врачу-инфекционисту с жалобами на прогрессирующую слабость, повышение температуры тела до субфебрильных значений (37,5–38,5оС), сохранявшуюся выраженную потливость (особенно в ночное время), влажный кашель с трудноотделяемой мокротой, снижение аппетита, снижение массы тела на 5 кг за последние 3 месяца, ухудшение мыслительных процессов, сохранявшееся снижение либидо.
Anamnesis vitae. Вирусные гепатиты отрицает. Венерические заболевания отрицает. Половой анамнез – один постоянный половой партнер (супруга). Вредные привычки: курение электронных сигарет. Отмечал аллергию на пенициллин. Социальный статус – высокий. Употребление алкоголя редко, наркотическую зависимость отрицает. Пациент госпитализирован в ГИКБ № 1, где находился на лечении в 23.12.2020–05.02.2021.
Объективный статус при поступлении в стационар (23.12.2020): общее состояние средней степени тяжести, обусловленное интоксикацией. Сознание ясное. Положение активное. Аппетит снижен. Сон не нарушен.
Status localis. Кожные покровы чистые повышенной влажности. Периферических отеков нет. Периферические лимфоузлы увеличены: подмышечные, переднеи заднешейные, затылочные до 1,0 см в диаметре плотно-эластичной консистенции, безболезненные, не спаянные с кожей и окружающими тканями. Зев умеренно гиперемирован, миндалины гипертрофированы 1-й ст. Налетов на миндалинах не отмечается. Мягкое небо фонирует. Носовое дыхание свободно. Носовое дыхание свободное, выделений из носовых ходов нет. Кашель частый, малопродуктивный. Грудная клетка конусообразной формы. Активно участвует в дыхании. Частота дыхательных движений – умеренное тахипноэ до 34 движений в минуту, одышка. Ритм дыхания правильный. При аускультации: дыхание жесткое, проводится во все отделы, хрипы обильные сухие и влажные выслушиваются по всем легочным полям с обеих сторон. Границы сердца в пределах возрастной нормы. Тоны сердца звучные, ритм не нарушен. Тахикардия до 108 ударов в минуту. Сердечные шумы не аускультируются. Артериальное давление – 115 и 85 мм рт.ст.
Слизистые оболочки полости рта розовые. Саливация достаточная. Язык влажный, обложен у корня белым налетом. Живот не вздут, при пальпации мягкий, безболезненный. Симптомы раздражения брюшины отсутствуют. Печень не увеличена, ее край эластичный, безболезненный. Селезенка не пальпируется. Стул оформленный, 1 раз в 2–3 суток (тенденция к запорам). Дизурических расстройств нет.
Диурез адекватный.
Менингеальных знаков нет. Очаговой неврологической симптоматики не отмечено.
Данные лабораторных исследований
Общий анализ крови (в динамике):
- от 23.12.2020. Гемоглобин – 124 г/л, гематокрит – 37,6%, эритроциты – 4,17 млрд/л, лейкоциты – 6,5 тыс/мкл, тромбоциты – 218 тыс/мкл, СОЭ – 18 мм/ч;
- от 26.12.2020. Гемоглобин – 118 г/л, гематокрит – 34,1%, эритроциты – 4,05 млрд/л, лейкоциты – 13,8 тыс/мкл, тромбоциты – 167 тыс/мкл, СОЭ – 31 мм/ч.
- от 30.12.2020. Гемоглобин – 101 г/л, гематокрит – 30,3%, эритроциты – 3,34 млрд/л, лейкоциты – 15,8 тыс/мкл, тромбоциты – 156 тыс/мкл, СОЭ – 45 мм/ч.
Биохимический анализ крови (при поступлении): общий белок – 82 г/л, альбумин – 39%, мочевина – 3,4 мМ/л, креатинин – 82,5 мкМ/л, билирубин общий – 18,4 мкМ/л, АЛТ – 19 ЕД/л, АСТ – 18 ЕД/л, ГГТП – 34 ЕД/л, глюкоза 6,6 – мкМ/л, щелочная фосфатаза – 45 ЕД/л, протромбин по Квику – 96%.
Рентгенограмма органов грудной клетки: от 24.12.2020. Легочный рисунок усилен, деформирован, смазан. Корни легких малоструктурны слева. Множественные очаги малой интенсивности в верхних и нижних легочных полях с обеих сторон на фоне ячеистой деформации легочного рисунка и полостных образований в апикальных сегментах (S2–S3).
Серологическое исследование крови методом ИФА выявило наличие специфических антител (IgM/IgG) к ДНКвирусу ЦМВ+ в диагностических титрах (от 26.12.2020) c пониженной степенью авидности (54%).
ИФА на наличие специфических антител (IgG/IgM) к РНК-вирусу HCV отрицательный.
Иммунограмма (при поступлении 24.12.2020): CD4 – 7 кл/мкл, CD8 – 165 кл/мкл, ИРИ – 0,12.
ПЦР ВИЧ – сохраняющаяся высокая вирусная нагрузка: 10 000 000 копий/мл.
ИФА токсоплазмоз (IgM/IgG) к Toxoplasma spp. в диагностических титрах (от 26.12.2020) c пониженной степенью авидности (56%).
Спиномозговая пункция (от 29.12.2020): ликвор умеренной прозрачности, бесцветный. Микроскопия: лимфоциты – 5, лимфоцитоз, уровень белка – 0,42 г/л [норма]; фибриновая пленка отсутствует; глюкоза 3,8 ммоль/л, хлориды – 126 ммоль/л; относительная плотность – 1,008 ЕД; pH – 7,38.
ПЦР ликвора на Toxoplasma gondii положительный. ПЦР мокроты выявил грибковую обсемененность Pneumocystis carrini.
Клинический диагноз (МКБ-10 – B20.7): ВИЧ-инфекция, стадия вторичных изменений 4В, фаза прогрессирования на фоне отсутствия АРВТ. Пневмоцистная пневмония средней степени тяжести, дыхательная недостаточность – 0–1-й степени. Генерализованная ЦМВ-инфекция. ВИЧ-ассоциированная лейкоэнцефалопатия. Токсоплазмоз головного мозга. На фоне проводимого лечения (химиопрофилактика туберкулеза, АРВТ, противовирусная терапия ЦМВ) наблюдалось улучшение состояния.
Пациент выписан с улучшением под рекомендованное амбулаторное наблюдение врача-инфекциониста Новосибирского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, однако, несмотря на информирование и мотивацию к лечению, пациент на учет не встал и осознанно не применял этиотропные препараты группы АВРТ, ссылаясь на относительно удовлетворительное состояние.
В марте 2021 г. у больного В. спонтанно появились единичные пятна розового цвета на коже лица (рис. 1 и 2). Обратился на прием к врачу-дерматологу частного медицинского центра, установлен диагноз СД. Проведено местное лечение СД (2%-ный кетоконазол) с положительной динамикой.

Однако в марте 2021 г. пациент повторно был госпитализирован в ГИКБ № 1 с диагнозом туберкулеза легких, начал получать противотуберкулезную терапию. В течение 9 месяцев отмечалось регрессирование процесса, в связи с чем консилиумно принято решение об отмене противотуберкулезной терапии.
Уровень вирусной нагрузки спустя 2 месяца от начала приема АРВТ оказался неопределяемым и сохранялся таковым на февраль 2022 г.
Тем не менее описанный клинический случай позволяет взглянуть на коморбидность СД и ВИЧ-инфекции под другим углом и правильно составить современный психологический портрет пациента.
Психологический профиль. Психологическое обследование (заполнение специально разработанных анкет, включающих методики Шуберта, Леонгарда, Собчик, Хейма, а также опросник ТОБОЛ) пациента В. показало следующие результаты.
По методике Шуберта (оценка готовности к риску): полученные ответы свидетельствуют о высокой готовности к риску, сопровождаемой низкой мотивацией к избеганию неудач (защите).
Согласно характерологическому опроснику Леонгарда, у пациента обнаружена возбудимая акцентуация характера, при которой поведение человека складывается не в результате логического взвешивания своих поступков, а под давлением влечений, инстинктов, бессознательных импульсивных побуждений.
По методике Собчик: шкала экстраверсии (8 баллов) свидетельствует об избыточной общительности, шкала спонтанности (5 баллов) о позитивной самооценке и стремлении к самоутверждению, шкала ригидности (5 баллов) говорит об устойчивости к стрессу. Психотип пациента по методике ТОБОЛ – эргопатический (уход от болезни в работу).
Диагностика копиинг-стратегий по Хейму выявила: диссимуляцию (отказ от преодоления трудностей из-за неверия в свои силы), оптимизм (уверенность в наличии выхода в любой ситуации) и отвлечение (уход от проблемы с помощью алкоголя и др.).
Таким образом, пример данного клинического случая свидетельствует, что такие особенности психологического профиля, как высокая готовность к риску, импульсивность решений и поступков, высокий уровень общительности, позитивная самооценка, высокая устойчивость к стрессу, эргопатический тип отношения к болезни; такие копиинг стратегии, как диссимуляция, оптимизм и отвлечение, могут приводить к формированию ВИЧ-диссидентства.
Обсуждение
Возвращаясь к описанию особенностей иммунного статуса пациентов с СД, отметим, что прогрессирование или атипичность течения СД у иммуноскомпромитированных (в т.ч. на фоне ВИЧ-инфекции) во многом обусловлена воспалительным синдромом восстановления иммунитета (ВСВИ). Частота развития ВСВИ у пациентов, начавших прием АРВТ, составляет 10–32% [9, 10].
Такой широкий процентный диапазон отчасти связан с несколькими факторами: отсутствием общепринятых критериев и сложностями в диагностике; началом и составом программы АРВТ; настоящей эпидемической обстановкой по туберкулезу в данном регионе проживания пациента; степенью приверженности (комплаентностью) больных к АРВТ, а также социальными условиями пациента и др. [11, 12].
Вероятно, причиной формирования ВСВИ у молодого пациента послужило начало интенсивной поликомпонентной АВРТ. В настоящее время ВСВИ может рассматриваться как совокупность воспалительных заболеваний, связанных с парадоксальным обострением ранее существовавших инфекционных процессов после начала АРВТ.
Согласно современным представлениям, ВСВИ, или Immune reconstitution inflammatory syndrome (IRIS), развивается у ВИЧ-инфицированных пациентов с выраженной иммуносупрессией, сопровождается прогрессирующим ухудшением состояния, развитием новых или ранее пролеченных оппортунистических инфекций, вторичных и соматических заболеваний на фоне эффективной антиретровирусной терапии [13].
Особенность манифестации клинического синдрома как проявления ВСВИ в том, что он всегда возникает на фоне иммунологической перестройки, связанной с позитивным влиянием АРВТ, приводящей к увеличению уровня CD4+-лимфоцитов и значительному снижению титра вирусной нагрузки. Механизм возникновения ВСВИ связывают с качественными и количественными изменениями пула CD4+-лимфоцитов сыворотки крови на фоне АРВТ [9, 12].
Определено, что эффективная АРВТ приводит к полному подавлению репликации ВИЧ, прежде всего в лимфоузлах и к значительному снижению уровня вирусной нагрузки ВИЧ. В этой ситуации активированные лимфоциты и другие клетки иммунной системы начинают перераспределяться из лимфатических узлов в кровоток, что проявляется значительным увеличением уровня лимфоцитов CD4+ у некоторых больных уже в ранний период АРВТ.
Таким образом, увеличение уровня СD4+ в ранний период АРВТ связано не с абсолютным увеличением количества клеток, а с перераспределением их в организме больного и поступлением в кровоток клеток из периферических лимфатических узлов, где в основном сосредоточены активированные лимфоциты. При этом поступление в кровоток больного огромного количества СD4+-лимфоцитов памяти создает предпосылки к запуску вторичного иммунного ответа на имеющиеся у больного различные инфекционные и неинфекционные антигены, что и проявляется манифестацией ВСВИ.
Во многих клинических исследованиях начальный этап перераспределения СD4+-лимфоцитов наиболее проявляется у больных с выраженной стадией СПИД на момент начала АРВТ [13–15].
Определены основные инфекционные антигены, способные индуцировать развитие ВСВИ: микобактерии туберкулеза, атипичные микобактерии, возбудители цитомегаловирусной, герпетической, папилломавирусной, Эпштейна–Барр-вирусных инфекций, токсоплазма, вирусы гепатитов В и С, контагиозный моллюск, пневмоцисты и др.
Неинфекционные проявления ВСВИ связывают с ревматоидным артритом, cистемной красной волчанкой, аутоиммунным тиреоидитом, интерстициальным лимфоидным пневмонитом, ассоциированными с ВИЧ-лимфомами, саркоидозом и др. Также описано и развитие хронических дерматозов (в т.ч. себорейного дерматита) у данной категории пациентов [3, 4, 16, 17].
Повторимся: ВИЧ-инфекция влияет на течение СД у инфицированных вирусом иммунодефицита лиц за счет воздействия на рецепторы себоцитов, что приводит к повышенной выработке кожного сала с последующим вовлечением в воспаление грибов рода Malassezia. При этом микробная контаминация приводит к более тяжелому клиническому проявлению СД у этих больных [5, 18, 19].
Обратим внимание на основные клинико-иммунологическими факторы риска развития ВСВИ, а именно: короткий интервал между терапией оппортунистических инфекций и началом АРВТ, низкий исходный уровень абсолютного и относительного содержания СD4+, низкие показатели иммунорегуляторного индекса (СD4+/СD8+), быстрое увеличение уровня СD4+, быстрое снижение уровня вирусной нагрузки на фоне АРВТ, молодой возраст; мужской пол, отсутствие АРВТ в анамнезе.
Согласно данным зарубежных исследований, ВСВИ следует рассматривать как совокупность воспалительных заболеваний, связанных с парадоксальным обострением ранее существовавших инфекционных процессов после начала высокоактивной и/или поликомпонентной АРВТ [20, 21].
Рассматривая данный синдромокомплекс, важно отметить, что к факторам риска развития ВСВИ у описанного пациента В. (в т.ч. на фоне инфицирования ВИЧ-1) относятся молодой возраст на момент установления диагноза, более высокий уровень вирусной нагрузки ВИЧ (более 500 копий РНК/мл) и более низкое количество CD4 в начале АРВТ.
Заключение
Представленный клинический случай демонстрирует тяжелую форму ВИЧ-инфекции и важность междисциплинарного взаимодействия врачей. СД относится к хроническим дерматозам, ассоциированным с ВИЧинфекцией. Следует отметить отсутствие корреляции между выраженностью кожных проявлений себорейного дерматита (минимальный вариант кожного синдрома) и тяжелой формой ВИЧ-инфекции. Кроме того, клинический случай наглядно демонстрирует развитие ВСВИ после начала интенсивной поликомпонентной АВРТ. Выявленные психологические особенности личности, социальный портрет больного необходимо учитывать при планировании персонифицированной стратегии терапии данной группы пациентов.
Вклад авторов. Хрянин А.А., Стуров В.Г., Шпикс Т.А. – концепция и дизайн исследования, написание текста, научное редактирование текста; Пушкарев Е.В. – сбор, анализ и обработка материала; Шпикс Т.А. – литературное редактирование текста.
Благодарности. Авторы выражают признательность врачам-инфекционистам ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1» за помощь в предоставлении клинического случая.